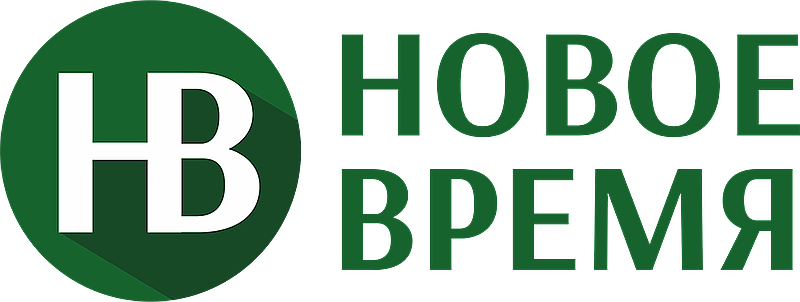Жена шахтёра. Очерк Евгения ПрасоловаСтатья
Воспоминания вдовы знаменитого в прошлом шахтёра Юрия Чистникова — Людмилы Чистниковой.
Она позвонила мне, когда я шёл по вечернему Губкину. Шум проезжающих машин иногда перекрывал голос в трубке, и я не сразу понял, кто говорит. Оказалось – вдова знаменитого в прошлом шахтёра Юрия Чистникова. Она с ходу стала благодарить меня за вышедшую месяцем ранее книгу «Комбинат КМАруда: вчера, сегодня, завтра», которая, как выяснилось, была ей подарена во время празднования 65-летия предприятия.
— Я плакала, – доносилось из мобильника. – Прочитала её от корки до корки! Как будто вновь побыла этот месяц с моим Юрой… Спасибо вам огромное….
— Да за что же мне‑то спасибо? Ведь я о вашем Юрии Алексеевиче в этой книге ничего не писал! Кроме, разве, отдельных воспоминаний о нём других, ныне живущих, шахтёров…
— Нет-нет, вы всё время писали и о нём, я ощущала это в продолжение всей книги. Ах, вы не представляете, как это здорово – оказаться вдруг в знакомой среде, в такой знакомой обстановке, в окружении товарищей Юры… А вы что, Юру разве не знали?
Легендой стал при жизни
Что было мне ответить? Что я его знал? Но наши с ним пути по жизни никогда и нигде не пересекались, ни одним словом с ним мы не перемолвились, и наши руки никогда не тянулись навстречу друг другу для пожатия. Но и ответить утвердительно на вопрос жены шахтёра я тоже не мог и вот почему. Вспомнилась вдруг поразившая меня когда‑то картина нашего талантливого художника-земляка Анатолия Григорьевича Савинова «Горняки в забое» и написанный мною под этим впечатлением стих «На выставке в музее». Были в нём и такие слова:
…Ещё я видел в работе
отличных ребят-шахтёров:
Как ласточки, трепетали
бурмолоты в их руках.
И был там наш Юрий Чистников,
он мною легко был угадан,
И я пожалел, что с ним рядом
не я, а кто‑то другой.
Конечно, если честно, то увидеть в одной из безымянных фигур на картине Чистникова в то время мне могла позволить лишь его только-только начинающая расти известность и моя фантазия. Но не успел потухнуть этот образ, как тут же услужливая память подсунула другой. 80-е годы. Юрий Чистников – в зените славы, имя его уже нередко сочетается с выражением «шахтёр-легенда». А вот как писала о нём в те годы главная газета страны «Правда»:
«Раз в неделю, в ночь под воскресенье, земля вокруг шахты имени Губкина на окраине одноименного города содрогается от мощного гула: взрывники готовят фронт работ добытчикам железной руды. Это едва ли не самая трудная горняцкая работа, требующая особого мастерства. Но за участок бурения на комбинате «КМАруда» имени 50-летия СССР спокойны: ни разу за многие годы бурильщики не подвели своих смежников – проходческие бригады. Во многом благодаря тому, что есть на этом участке настоящий профессор в своём деле, горняк с двадцатилетним стажем Юрий Алексеевич Чистников».
(П. Лемешко. Газета «Правда», 27 января 1985 г.)
Так вот, иду я по городу, навстречу – он, шахтёр-легенда. И хотя мы не знакомы, примелькавшееся по частым газетным публикациям и публичным выступлениям лицо заставляет меня повернуть голову и поздороваться. Поздоровался, проходя мимо меня, и он и, казалось бы, что в этом примечательного? Да ничего, если бы не появившееся при этом на его лице, а точнее в глазах, выражение. Это было выражение быстро сменяющихся вопроса, лёгкого удивления и, наконец, признательности! Не равнодушия или безразличия, вполне, казалось бы, объяснимых в его положении, а именно признательности! Выражение это долго потом не отпускало меня: чем мог заслужить его я, человек совершенно ему не знакомый? Лишь годы спустя нашёл случайно в какой‑то книге объяснение такому явлению. Оказывается, оно чаще свойственно людям достойным, но очень скромным. Именно в силу этой скромности такие люди, не испытывая явного стремления к любой демонстрации своих достоинств, тем не менее, испытывают признательность к тем, кто достоинства эти в нём видит и признаёт.
Всё, что в тот момент вспоминалось, не мешало мне одновременно улавливать на слух и откровения моей телефонной собеседницы.
«Как я хотела, чтобы он пошёл учиться, чтобы приобрёл какую‑нибудь специальность! Юра, – говорила я ему, – ну и что с того, что тебе орден Ленина дали, что ты лауреат Государственной премии и всё такое прочее, а случись какая авария или что‑то ещё, и ты не сможешь свои рекорды ставить и вообще не сможешь работать в шахте… да мало ли что может случиться! – куда пойдёшь, где пристроишься? Вы не поверите, я даже однажды жалобу на него в партком написала, что он учиться не хочет, чтобы они воздействовали как‑то на него…».
Голос в телефоне неожиданно смолк. Я посмотрел на экранчик своего телефона – он светился, зарядка была в норме.
«Расстроилась, – подумал я о звонившей. – Может, завтра ей перезвонить? А что ей скажу – продолжайте ваш разговор, я слушаю?»
Оставил… не скучать
И всё же где‑то через месяц я позвонил и договорился о встрече. На столе в зале у Людмилы Яковлевны Чистниковой меня ждала большая стопка папок с наградными листами и семейные альбомы. Хозяйка оказалась словоохотливой. Сказала, указывая на папки:
— В последнее время, когда Юра болел, спрошу его, бывало, куда всё это девать, он всё шутил: «Это, чтоб ты без меня не скучала». Вот и оставил одну в четырёх комнатах с ними… не скучать. А раньше каждый раз, бывало, принесёт с работы какую‑нибудь очередную грамоту или ещё что, обязательно скажет: «Вот видишь, а ты не хотела за меня замуж выходить!»
— Вы и вправду не хотели?
— Да как сказать? Выбор‑то у меня был!.. Когда у меня появился Юра и я отказала прежнему ухажёру, знакомые говорили: «Сменяла орла на воробья». Это потом мой Юра тоже стал орлом, на него все губкинские женщины заглядывались. А кто он поначалу был? Так, заводила старооскольской уличной шпаны, ценитель голубей и собак, мастер подраться. Недаром ему, когда он однажды пришёл домой с подбитым глазом, отец сказал: «Наконец‑то, и на тебя кулак нашёлся!». Он ведь с 10 лет без матери остался, а мачеха нездорово жаловала.… И после армии, когда с ним познакомилась, ещё ходил в коротеньких штанишках да в кургузом пиджачке.
— Как же вы в нём «орла» разглядели?
— А вот не знаю! Может, обратила внимание на его скромность. Он был удивительно скромный, несмотря на всю отчаянность. А ещё – гордый, у-у, он да его отец – два гордеца! Как‑то поссорились, отец собрал его вещи в два чемодана и выставил на крыльцо. Сын молча взял их и ушёл в общежитие. Но когда предлагал мне пойти с ним в ЗАГС, чтобы расписаться, то не предлагал, а просил, как ребёнок, и голос дрожал, как у ребёнка. Очень боялся, что не соглашусь. Я ведь тоже была гордая, одно слово – кубанская казачка! Самостоятельную жизнь начала, считай, с 16 лет. После окончания 10 классов поехала с подругой поступать учиться в Тверь, да не сложилось, и оказались мы в Старом Осколе. Поначалу устроилась на овощесушильный завод разнорабочей. Потом работала в чайной – крутила пельмени и – официанткой. Провидению было угодно, чтобы я, оказавшись в Старом Осколе, сразу стала на квартиру у семьи Чистниковых, Юра в это время ещё был в армии. Но когда он приехал, я, конечно, перешла на другую квартиру. Закончила торгово-кулинарную школу. А когда с Юрой поженились, переехали в Губкин. Этот город и стал моей второй малой родиной, здесь протекла моя почти вся сознательная жизнь.
— В лучах шахтёрской славы любимого мужа?
— Ничего подобного! Мне и своей славы хватало. Ну… не славы, конечно, но в городе меня знали многие. Помните, ресторан на улице Комсомольской, «Металлург» назывался? Главный и поначалу единственный в городе. 20 лет я была его директором. Не буду вдаваться в подробности, они вам не нужны, но, поверьте, было всё очень непросто. Особенно в те, советские, времена. Но давайте говорить о Юре, вы ведь о нём хотели послушать?
— Почему же, и о вас тоже! Вы что‑то в прошлый раз говорили, как учиться его заставляли, даже жаловались на него в партком…
— Жаловалась, да что толку! Никакого ответа я не получила тогда. И только много лет спустя, когда Юра был уже на пенсии, один из его бывших начальников признался мне, что жалобу мою они тогда спрятали, Юре не показали. Он ведь был нужен им как герой, как знамя комбината, а не как студент. А у него не только руки были «золотые», но и голова очень светлая.
Он и на пенсии потом не мог без дела сидеть, работал председателем садоводческого товарищества, а всё тосковал по шахте. Переживал, что не нашлось ему там с его опытом настоящего применения. Впрочем, в те, перестроечные, времена никому ни до чего и ни до кого дела не было. Последние годы болел тяжело, врачи говорили – на нервной почве.
Во всё время разговора лицо моей собеседницы постоянно то озарялось при тёплых воспоминаниях о муже, то на него набегала тень грусти. Словно у идущего в солнечный день по лесу. Рассказывала, как любил муж свою бригаду, как самозабвенно отдавался работе – «я даже иногда ревновала!», – как, достигнув рекордных высот производительности, сам вызвался поработать в отстающих бригадах рядовым бурильщиком, чтобы поделиться с ними своим опытом. В каких стеснённых условиях жили в первые годы (что, кстати, не помешало им произвести на свет двух прекрасных сыновей).
— Людмила Яковлевна, – вдруг говорю я, – вы сказали, что даже ревновали мужа к его работе. А больше ни к чему, вернее, ни к кому вы его не ревновали? Сами же говорили, что многие женщины на него заглядывались, что, дескать, орёл был. Да это и по фотографиям видно.
Не сразу ответила мне моя собеседница:
— А я и сейчас считаю, что добрая половина губкинских женщин была влюблена в моего Юру.
Во взгляде её, устремлённом куда‑то мимо меня, в пустоту, просматривалась ласковая печаль, какая бывает у людей, смотрящих вслед только что скрывшемуся поезду, на котором уехал близкий человек. Но было ли в этом ответе признание на мой вопрос или, наоборот, отрицание, я уточнять не стал.